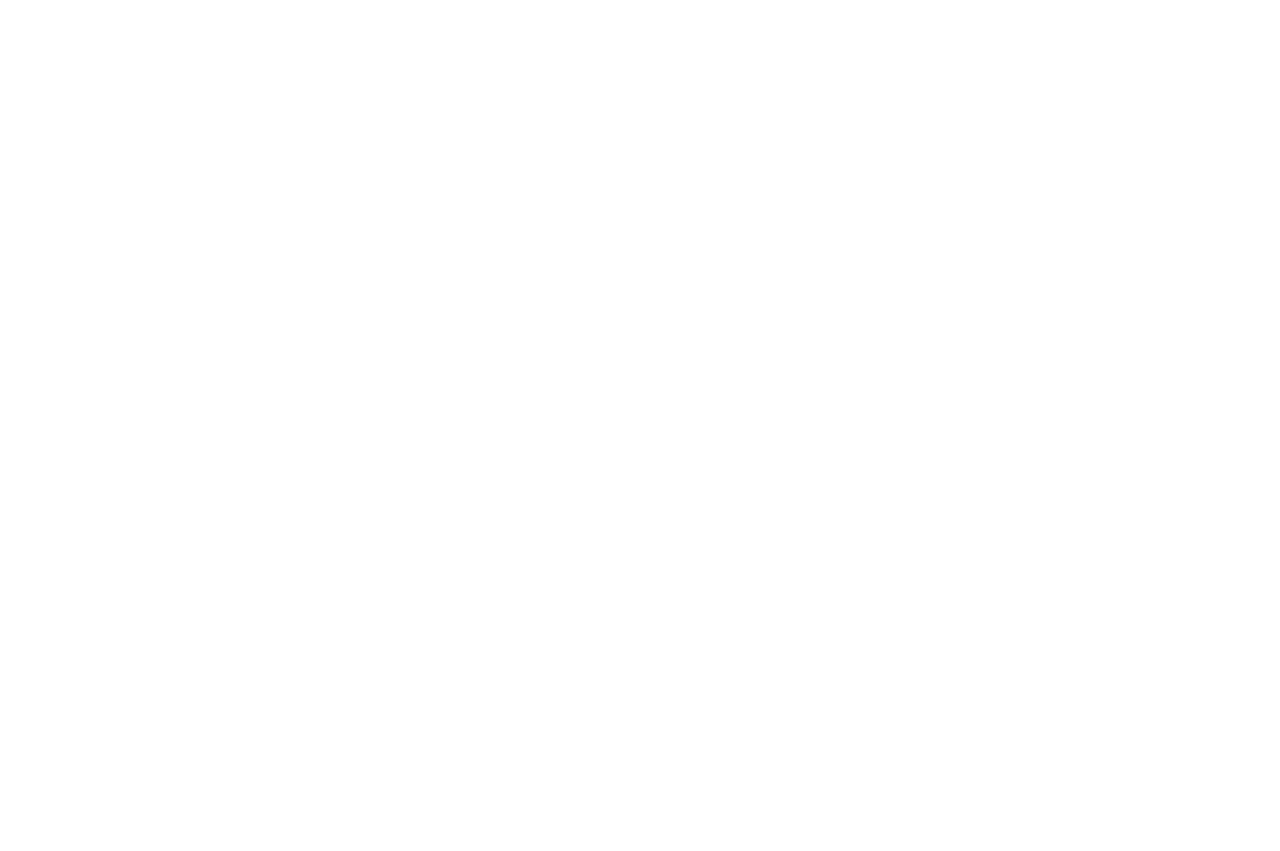
Звезда безвременья
Юрий Милованов
Для современного читателя русская литература первой трети XIX века ассоциируется с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. Но для современников упомянутых классиков это прежде всего было временем «бестужевской» литературы.
Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797–1837) был едва ли не самым читаемым и издаваемым литератором того времени. И в немалой степени такая популярность была заслуженной, поскольку именно он дал тогдашнему отечественному читателю повести и романы «европейские» по тематике, структуре и образам главных героев, оставаясь при этом адептом, по сути, одного-единственного жанра — романтически-приключенческого. Жанра по современным меркам достаточно легковесного, почти детского.
Но надо понимать, что во времена, когда ни психологический роман, ни художественно-публицистическая проза, ни детектив еще не получили своего полноценного жанрового оформления, лучшие образцы приключенческой литературы нередко служили своеобразным мировоззренческим манифестом, в котором заинтересованному читателю предлагалась картина общественного устройства, образа жизни и мыслей, свободных от пороков, несправедливостей и бессмысленности окружавшей его (читателя) жизни реальной.
Сама конструкция произведения приключенческой литературы — от рассказа до полноценного романа — предполагала почти обязательный набор героев, каждый из которых был персонификацией определенной жизненной философии. Тогда как сама фабула приключения (путешествия, исследовательской экспедиции, военного похода) становилась пространственно-временнóй сценической площадкой взаимодействия (любви, дружбы, ненависти и (или) противоборства) героев такого литературного произведения. В той же роли выступали и объекты путевых заметок, этнографических описаний каких-то «других», «не наших» земель и народов.
Однако при этом неукоснительно соблюдалось одно требование — это вынесенность описываемого (происходящего) за рамки обычной повседневной жизни рассказчика, той самой жизни, которая своей удушающей обыденностью, бездушностью способна довести мечтательную романтическую натуру до «самоубийства от тоски». Хотя для «маленького человека» («коих на Руси великое множество», по выражению П. П. Белкина) дело, как правило, ограничивалось беспросветным пьянством, деградацией личности и падением на дно общества — сюжет, который пару десятилетий спустя после смерти А. Бестужева-Марлинского так полюбят русские литераторы — от Федора Достоевского до Всеволода Крестовского.
Во второй половине XVIII века у европейской «читающей публики» стала пользоваться популярностью фигура героя — «благородного дикаря», введенная в литературный оборот Ж.-Ж. Руссо, — человека открытого, не испорченного лицемерием цивилизации, живущего («на природе») естественной гармоничной жизнью, где ценятся свобода, созидательный труд, честность и прямодушие.
Для «благородного дикаря» как литературного персонажа характерно открытое проявление чувств: любви, дружбы, верности, уважения к своему и чужому достоинству. Именно такого героя ввел в русскую литературу в 20-х годах XIX века А. Бестужев-Марлинский (к слову сказать, позже весь этот обязательный дикарско-джентельменский набор будет воспроизведен в романах Фенимора Купера).
Но если в европейской литературе преобладало немного снисходительное отношение к «благородному дикарю» — как к ребенку, еще не испорченному цивилизацией, то герои А. Бестужева-Марлинского живут в мире сложном, постоянно подвергающем их испытанию на прочность, а сам автор относится к ним как личностям скорее героическим.
Мир, в котором живет «благородный дикарь» у Александра Бестужева-Марлинского (а под его влиянием и у других представителей романтизма, включая быстро восходящего А. С. Пушкина, искренне разделявшего взгляды А. Бестужева и прислушивавшегося к его советам), это мир по-своему жестокий, требующий от живущих в нем поступков, на которые неспособно подавляющее большинство обывателей «цивилизованного мира». И если в руссоистской традиции мир «благородного дикаря» — это своеобразное младенчество цивилизованного общества, то у А. Бестужева этот мир «дикий», но свободный, естественный и гармоничный. В нем живут в большинстве своем люди открытые, прямые и честные. Он противопоставляется обществу, испорченному цивилизацией, в качестве полноценной альтернативы — альтернативы в каком-то смысле даже более предпочтительной, чем бессмысленная, а зачастую и беспросветная повседневность жизни, окружающая «цивилизованного» человека.
Любопытно, что столетие спустя многие антропологи XX века, в число которых входит и не так давно умерший классик Клод Леви-Стросс, изучавшие потестарные общества, будут разделять эту точку зрения.
Но мир, свободный от пороков цивилизации, для европейского читателя можно найти скорее в литературе, чем в реальной жизни. На рубеже XVIII–XIX веков такой мир становится, по сути, утопией в буквальном значении термина — далекой территорией без названия, расположенной неизвестно где, за морем, за океаном.
Русский читатель в XIX веке оказался в более выгодном положении благодаря А. Бестужеву-Марлинскому. В его повестях мир «благородных дикарей» находится рядом, на тогдашней границе империи — это Кавказ (точнее, Западный и Северо-Западный Кавказ, поскольку в Дагестане и Закавказье, где А. А. Бестужев после возвращения из якутской ссылки в 1829 году провел более двух лет, по отзывам современников, царила ленивая атмосфера окраин империи).
Именно произведения А. Бестужева-Марлинского формируют у российской читающей публики романтическое представление о «кавказских обществах» (термин, обозначавший самоуправлявшиеся племена и племенные союзы и использующийся некоторыми зарубежными кавказоведами и поныне) как о гармоничном, сложном организме, где к достойному (благородному) поведению человека побуждает не страх перед законом и наказанием за его нарушение, а общественная мораль, основанная на обычаях (адатах). В кавказских «обществах» поступки человека определяет сложная система социальных регулятивов (как, например, широко известный кодекс «Адыгэ-Хабзэ», во многом соблюдающийся и у современных адыгских народов).
Интересно, что такое представление очень скоро становится стереотипом и уже спустя годы после гибели А. А. Бестужева не только воспроизводится литераторами, но и присутствует в записках некоторых младших офицеров, воевавших в Чечне, горной части Дагестана и на Западном Кавказе в самый жестокий период Кавказской войны (т. е. со второй половины 40-х годов и до ее окончания в 1864 году).
Но влияние А. Бестужева-Марлинского на общественное мнение, так же как и особое внимание к нему со стороны жандармского корпуса, определяется не одной только романтизацией сопротивляющихся российской экспансии горцев. Художественная по форме проза Бестужева-Марлинского была остро публицистической по ее общественному звучанию. Волей-неволей она побуждала читателя сравнивать повседневную жизнь современной ему России (где «бунт бессмысленный и беспощадный» для подавляющей массы подданных империи становится, по сути, единственной превращенной формой проявления их достоинства) с гармоничным и свободным существованием горцев и некоторой части воевавших с ними казаков с отдаленных линий — цепи кордонов и редутов (пограничных укреплений). Естественно, такое сравнение опиралось на сильно идеализированное представление о горских «обществах», однако сам факт подобной идеализации мало кого из читателей волновал. Волновало другое — «полная достоинства, гордая и свободная жизнь» есть, и не где-то «за морем», а «почти рядом», на границах России.
В отличие от английского «колониального романа», в котором многие авторы в конце концов пришли к оправданию колониальной экспансии идеологемой «бремя белого человека», прочтение «кавказских» произведений А. Бестужева-Марлинского приводит читателя к вопросу о том, что несет эта война кавказским народам. И А. Бестужев дает свой ответ: «покорение» горцев принесет им только лишения, страдания, а в итоге и уничтожение, как в физическом, так и в этнокультурном отношении. Мрачные предчувствия писателя сбылись после его смерти в судьбе мухаджиров (горцев, вынужденных бежать за границу после военного поражения) на последнем этапе Кавказской войны.
В то же время нельзя не отметить, что в последние годы жизни А. А. Бестужева (с середины 30-х годов XIX века) история декабристов и поднятых ими тем понемногу стала «сходить с повестки» (возможно, причиной тому послужили войны — русско-персидская 1826–1828 годов и русско-турецкая 1828–1829 годов, а также Польское восстание 1830–1831 годов). Появились и новые литературные герои — «лишние люди» (хрестоматийными образами которых стали Онегин и Печорин).
В 30-е годы XIX века умонастроения, постепенно овладевавшие благодарными прежде почитателями героев Александра Бестужева-Марлинского, все дальше уходят от восхищения «идеалами свободы», «благородными дикарями» и радостями «естественного мира». Ситуация, очень точно переданная Леонидом Филатовым в «Кюхельбекере», одном из блестящих стихотворений пушкинского цикла, где лирический герой оказывается в таком же положении: «Он пишет им, не чуя между тем, // Что век устал болтать на эту тему. // Нет добровольцев бить башкой о стену…»
В 1835 году (еще при жизни А. Бестужева) начинает атаку на романтизм и «выдуманных героев» писателя «неистовый Виссарион» (В. Г. Белинский). Последний, впрочем, и сам довольно скоро надолго уйдет в небытие как литературный критик, но ни А. Бестужеву, ни романтизму это уже не поможет.
«Все счастливы, что кончилась гроза!.. // ...А он, забытый всеми, ждет ответа…» (Л. Филатов, «Кюхельбекер») — так, наверное, можно было бы обозначить положение в русской литературе А. Бестужева, проживи он еще несколько лет. Все, «конец игры». Под конец жизни А. Бестужева красивых романтических героев сменяют «лишние люди», а еще через 20–25 лет тон в общественном мнении начнут задавать разночинцы Базаровы, не ведающие сомнений и не склонные к красивостям и сантиментам ни в речах, ни в поступках и совершенно равнодушные к Кавказу.
Как бы кощунственно это ни прозвучало, но ранняя смерть А. Бестужева-Марлинского в каком-то смысле была милостью судьбы. Он ушел из жизни, еще не растеряв своей прежней славы, сохраняя если не надежду на лучшую жизнь, то по крайней мере способность и желание мечтать о ней. Ушел так, как и должен уходить романтический герой, — рано, в сражении, загадочно, — его труп среди погибших на мысе Адлер 19 июня 1837 года так и не был найден (одно время это даже породило легенды о том, что он ушел к горцам).
Сегодняшнему читателю, выросшему отнюдь не на романтических героях, едва ли захочется разбираться во всех их страстях и пространных (местами даже нудноватых) размышлениях о своем предназначении — что в период романтизма было характерно не только для литературных персонажей, но и для людей круга Бестужева-Марлинского, реально живших в то время (к слову, в этот же круг в свое время входил и А. С. Пушкин).
Эпоха романтизма, в том его варианте, который был популярен в XIX веке, ушла безвозвратно и, наверное, была бы основательно забыта, если бы время от времени не появлялись произведения, способные в яркой и занимательной форме «оживить» его — интересно показать характерные для него темы, мысли и проблемы. Роман Евгения Андреевича Милованова «На Кавказской линии» в этом отношении вполне удовлетворяет самым строгим критериям. У него хороший, прямо-таки кинематографический темп, колоритные герои, увлекательная фабула, нарастающий по ходу развития сюжета драматизм, легкий и красочный язык — «все, как положено»… При этом он достаточно прост для восприятия неподготовленного читателя.
Однако при всей внешней простоте и традиционности и где-то даже нарочитой бесхитростности, композиционно он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что избранное автором построение романа в точности повторяет схему, традиционную для «бестужевского» романтизма.
Типичный для XIX века набор действующих лиц: отвергнутый современным ему «цивилизованным обществом» главный герой, волею злосчастной судьбы оказавшийся в «диком краю» (сам Александр Александрович); «благородные дикари-аборигены» (Никишка, Ахмет), прямодушные до наивности, но тонко чувствующие драму хорошего человека и на этом, достаточном для них основании почти сразу предлагающие ему свою поддержку и дружбу. Продолжают ряд персонажи, олицетворяющие «цивилизованное общество-государство», все, за редким исключением, отрицательные: трусливый позер (Гризинау), бездушно рациональный жандармский ротмистр (Казанцев), безжалостный «человек войны» (генерал Засс, по утверждениям отдельных, более поздних историков, психопат); угнетаемые и забитые крестьяне, чей бунт изначально обречен на поражение.
Традиционная для все того же романтизма линия развития драматургии: чем больше государство вмешивается в гармоничное существование потестарных обществ, тем больше зла появляется в горских обществах, и происходящие изменения роковым образом сказываются именно на судьбе самых лучших их членов (тоже довольно часто встречающийся мотив, позже часто обыгрывавшийся в кино). Далее следует разделение потестарного горского общества на тех, кто примкнет к «цивилизаторам», и тех, кто будет отстаивать уклад прежней свободной жизни. Однако любые попытки «благородных дикарей» противостоять надвигающейся махине государства — как у казаков (Никишка, Назар), так и у горцев (Ахмет, Аслан) — оканчиваются неудачей.
Также в соответствии с романтическим каноном герои первого ряда (сам Бестужев, Никишка, Ахмет, капитан Лесневский, поручик Крайнов), по сути, являются своеобразной персонификацией определенных мировоззренческих позиций, а их реплики в диалогах нередко звучат как прокламация, обобщенные тезисы такой позиции. Например, полемика Бестужева и Лесневского о литературе, где первый манифестирует основное философское кредо романтизма, а второй формулирует позицию пробивающего себе дорогу критического реализма.
Вышеотмеченная схема в той или иной степени присутствует в любом произведении XIX века, если оно испытало влияние романтизма и основное его действие происходит на колонизируемых территориях — от лермонтовского Печорина до романов Фенимора Купера.
По большому счету читатель, имеющий самое общее представление об основных этапах Кавказской войны XIX века, достаточно легко может угадать дальнейшее развитие событий еще в самом начале романа. Тем не менее, несмотря на все условности жанра, у читателя сохраняется стойкое ощущение достоверности происходящих событий — роман читается почти как историко-этнографические записки о Кавказской войне.
Думается, что, помимо отмеченных ранее легкого, даже красивого языка и динамичности романа «На Кавказской линии», читательский интерес обусловлен историко-этнографической и географической достоверностью. Автор хотя и лаконично, но очень точно описывает места, где происходит действие. Не знаю, осознанно или нет, но Евгений Милованов в какой-то мере следовал самому Бестужеву-Марлинскому, который в описании обычаев, уклада жизни горцев и мест, где он бывал во время военных походов на Кавказе, отличался редкой точностью и педантичностью.
Также Милованов, будучи квалифицированным историком-кавказоведом, был хорошо знаком с архивными материалами Кавказской войны, в том числе закрытыми (благодаря поддержке друзей), особенно касающимися военных экспедиций и походов на Западном и Северо-Западном Кавказе. В свое время он сделал съемку и описание двух редутов на Урупской и Лабинской линиях укреплений (кстати, там же им были найдены еще не применявшиеся в русской армии расширительные пули Минье и Петерса, непосредственно свидетельствующие о поставках горцам англичанами и французами самого современного на тот момент нарезного стрелкового оружия).
В местах, где происходит основное действие романа «На Кавказской линии», автор прожил более двадцати лет и сам целенаправленно не раз проходил теми же маршрутами, что и герои его романа. Притом что по требованию редакторов издательств, в которые он обращался, какие-либо намеки на конкретную этническую принадлежность некоторых героев (Ахмета и Аслана) необходимо было исключить, Евгений Андреевич очень хорошо знал культуру и обычаи всех без исключения народов, проживавших в этих местах во времена Кавказской войны, вплоть до особенностей быта отдельных адыгских племен, ныне исчезнувших (например, кизилбековцев).
Именно это позволило ему убедительно воспроизвести в тексте романа мотивы действий второстепенных героев. Например, четко обозначенный конфликт между героями второго плана (Ахмет и Аслан против Канукова) — это стремительно развивающийся конфликт уходящего потестарного горского общества и становящегося классового общества, который неизбежно привел бы к появлению на Западном Кавказе самостоятельного феодального государства (процесс был прерван только экспансией со стороны Российской империи).
Латентную основу такого конфликта, заложенного в романе, составляют процессы, реально происходившие среди этносов, населявших Западный Кавказ, в первую очередь среди адыгских народов — предков современных адыгейцев, кабардинцев, шапсугов, черкесов и в меньшей степени абазин, которых в то время как в России, так и за рубежом именовали черкесами. Так, в грезах-размышлениях князя Канукова об объединении земель под своим правлением ясно сформулирована позиция той части кабардинской знати, которая не смирилась с продвижением Российской империи на территорию современных Кавказских Минеральных Вод и уходила вместе со своими аулами на слабонаселенные и еще не подконтрольные России земли — междуречье рек Кубани, Лабы и Белой. Туда же стремились уйти и многие самостоятельные адыгские племена, в которых на тот момент не было господствующих княжеских фамилий (позднее кавказоведы назовут их «демократическими» племенами в противовес «аристократическим», сохранившим княжеские фамилии в качестве главенствующих). В результате в бассейне рек Зеленчук и Большой Лабы сформировались фактически независимые территории так называемой Беглой Кабарды. И Кануков понимает, что необходимым условием его независимости так или иначе станет бесконечное лавирование между Россией и Турцией, претендующих на эти земли. Открытое русско-турецкое соперничество за влияние на Кавказе ко времени событий, описываемых в романе, насчитывало уже полстолетия.
В любом случае мысли и речи практически каждого героя — это представления, сформированные и сформулированные именно в таком виде, в каком они были распространены в соответствующей среде в начале второй трети XIX века — времени действия романа «На Кавказской линии».
Но в романе есть еще и третий слой — авторский. «На Кавказской линии» был написан в 1969–1972 годах, когда, как известно, обязательной была единая точка зрения на любые события в истории России. Разрабатывали такую «идеологически выверенную» точку зрения соответствующие отделы партийных органов.
За тем, чтобы авторы любого подготовленного к публикации текста не отступали от официальной «линии партии» (КПСС), следили специально уполномоченные органы, так называемые лито (литературные отделы органов безопасности). Любое научное, публицистическое или художественное произведение неизбежно попадало в одну из трех следующих категорий: первая — оно могло быть сразу допущено к публикации; вторая — допущено только при условии переделки и исправления обнаруженных несоответствий официальной трактовке; третья — не должно быть опубликовано в СССР ни при каких обстоятельствах, в таком случае рукопись у автора, как правило, изымалась.
Такая система контроля всегда давала прогнозируемый результат. Если художественное произведение касалось конкретных исторических событий или личностей, либо оно должно было полностью укладываться в официальные их трактовки, либо автор должен был обозначить его как «вымысел на тему» (подобно тому, как сейчас указывается, что «все совпадения случайны»).
При работе над романом «На Кавказской линии» Е. А. Милованов в общем-то достаточно ясно понимал, что его ждут многочисленные проверки текста на соответствие «линии партии». Но, будучи историком по образованию, хорошо знавшим и фактуру, и принятые историко-литературоведческие трактовки, он рассчитывал обойти препоны.
Поначалу казалось, что это ему почти удалось. Формально все соответствует: вот тебе жестокий царизм, вот — неоднозначный генерал Засс (в советской историографии его фигуру предпочитали больше замалчивать, чем критиковать, все-таки ревностно служил приращению земель), вот — почти карикатурный представитель класса-эксплуататора Гризинау; умелый вербовщик жандарм Казанцев; угнетающий свой собственный народ князь Кануков, ради власти готовый на компромиссы хоть с англичанами, хоть с турками, хоть с русскими и одинаково презирающий их всех…
Вроде бы все как надо, все вписывается в одобряемый официальной идеологией набор персонажей исторического романа. Все так — да не так. С точки зрения тогдашних идеологических клише Кавказская война при всех ее ужасах считалась явлением «исторически прогрессивным», поскольку «революционизировала угнетаемые народные массы окраин империи» и тем самым «приближала революционную ситуацию» (существовавшие тогда действительно серьезные исследования в основном предназначались профессионалам и не были рассчитаны на широкую аудиторию). Тогда как «На Кавказской линии» несет в себе скрытые, но достаточно четкие посылы: любая война за присоединение территорий — зло, любое государство — машина угнетения, чем порядочнее человек, тем сложнее ему сохранить достоинство и свободу в окружающей его жизни.
Привыкший к «двоемыслию» искушенный советский читатель (а читали тогда все) охотно и с удовольствием проецировал реплики героев романа о войне, свободе, государственной власти на современное ему положение дел. И получалось, что изменилось-то не так уж много. В этом плане показательна реплика одного из друзей Е. А. Милованова (офицера КГБ, немало помогавшего ему с доступом к закрытым архивным документам): «Что-то твой Казанцев совсем уж на наших (т. е. чекистов) смахивает». Прочитавший роман историк и лектор-пропагандист (была такая форма работы с населением) говорил о том, что вообще-то Засс получился «порядочной скотиной», а Аслан — не будущим революционером, а откровенным бандитом, грабившим тех, кто побогаче, обеспечивая себе тем самым поддержку со стороны бедноты.
Я не уверен, что Евгений Милованов сознательно закладывал в свой текст возможность такого прочтения, однако в то время в кругу его потенциальных читателей подобная «герменевтика» была нормой.
И сведущими во всяческих интерпретациях были не только будущие читатели романа «На Кавказской линии», но и специалисты лито.
В итоге хождения Е. А. Милованова по редакциям, заключения лито, дискуссии с рецензентами заканчивались одним приговором: «так» (с подтекстами всякими) писать нельзя, и публиковать «такое» тоже нельзя. Ладно еще, если бы написанный текст сразу был обозначен как вымысел, где главный герой никакой не А. А. Бестужев-Марлинский, а некий «обобщенный образ писателя-декабриста». В одной редакции даже предложили переименовать его в Остужева: мол, и вопросы снимешь, и «с намеком». Ан нет, начинающий автор претендует на соответствие историческим событиям, да еще и текст его романа какой-то беспафосный, не зовущий к борьбе, не намекающий на то, что в исторической перспективе «ярмо деспотизма разлетится в прах» (выражение из работы В. И. Ленина «Памяти Герцена», отрывки из которой абитуриенты гуманитарных факультетов заучивали на память).
Действительно, публиковать такое нельзя.
Самое интересное, что сам Е. А. Милованов ни на какое научно-биографическое открытие не претендовал, был безразличен к популярному тогда доморощенному диссидентству интеллигенции, не любил разговоров о том, что историко-романтическая тема в литературе несовременна или насквозь идеологизирована (в последнем случае обычно имелись в виду произведения о Гражданской войне 1918–1920 годов). Он любил историю Кавказа, историю русской романтической литературы XIX века, ему нравилось о них рассказывать — из этого всего и вырос роман «На Кавказской линии», который больше полувека пролежал «в столе». И дело здесь, наверное, не столько в пресловутом советском прошлом, сколько в том, что такие писатели-романтики, как он, в любые времена, при любом строе оказываются ни к месту и не ко времени.
«Звезда безвременья» — таково было рабочее название романа «На Кавказской линии». Не берусь судить о том, насколько верно оно отражало судьбу главного героя, но судьба самого автора в нем обозначена точно.
Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797–1837) был едва ли не самым читаемым и издаваемым литератором того времени. И в немалой степени такая популярность была заслуженной, поскольку именно он дал тогдашнему отечественному читателю повести и романы «европейские» по тематике, структуре и образам главных героев, оставаясь при этом адептом, по сути, одного-единственного жанра — романтически-приключенческого. Жанра по современным меркам достаточно легковесного, почти детского.
Но надо понимать, что во времена, когда ни психологический роман, ни художественно-публицистическая проза, ни детектив еще не получили своего полноценного жанрового оформления, лучшие образцы приключенческой литературы нередко служили своеобразным мировоззренческим манифестом, в котором заинтересованному читателю предлагалась картина общественного устройства, образа жизни и мыслей, свободных от пороков, несправедливостей и бессмысленности окружавшей его (читателя) жизни реальной.
Сама конструкция произведения приключенческой литературы — от рассказа до полноценного романа — предполагала почти обязательный набор героев, каждый из которых был персонификацией определенной жизненной философии. Тогда как сама фабула приключения (путешествия, исследовательской экспедиции, военного похода) становилась пространственно-временнóй сценической площадкой взаимодействия (любви, дружбы, ненависти и (или) противоборства) героев такого литературного произведения. В той же роли выступали и объекты путевых заметок, этнографических описаний каких-то «других», «не наших» земель и народов.
Однако при этом неукоснительно соблюдалось одно требование — это вынесенность описываемого (происходящего) за рамки обычной повседневной жизни рассказчика, той самой жизни, которая своей удушающей обыденностью, бездушностью способна довести мечтательную романтическую натуру до «самоубийства от тоски». Хотя для «маленького человека» («коих на Руси великое множество», по выражению П. П. Белкина) дело, как правило, ограничивалось беспросветным пьянством, деградацией личности и падением на дно общества — сюжет, который пару десятилетий спустя после смерти А. Бестужева-Марлинского так полюбят русские литераторы — от Федора Достоевского до Всеволода Крестовского.
Во второй половине XVIII века у европейской «читающей публики» стала пользоваться популярностью фигура героя — «благородного дикаря», введенная в литературный оборот Ж.-Ж. Руссо, — человека открытого, не испорченного лицемерием цивилизации, живущего («на природе») естественной гармоничной жизнью, где ценятся свобода, созидательный труд, честность и прямодушие.
Для «благородного дикаря» как литературного персонажа характерно открытое проявление чувств: любви, дружбы, верности, уважения к своему и чужому достоинству. Именно такого героя ввел в русскую литературу в 20-х годах XIX века А. Бестужев-Марлинский (к слову сказать, позже весь этот обязательный дикарско-джентельменский набор будет воспроизведен в романах Фенимора Купера).
Но если в европейской литературе преобладало немного снисходительное отношение к «благородному дикарю» — как к ребенку, еще не испорченному цивилизацией, то герои А. Бестужева-Марлинского живут в мире сложном, постоянно подвергающем их испытанию на прочность, а сам автор относится к ним как личностям скорее героическим.
Мир, в котором живет «благородный дикарь» у Александра Бестужева-Марлинского (а под его влиянием и у других представителей романтизма, включая быстро восходящего А. С. Пушкина, искренне разделявшего взгляды А. Бестужева и прислушивавшегося к его советам), это мир по-своему жестокий, требующий от живущих в нем поступков, на которые неспособно подавляющее большинство обывателей «цивилизованного мира». И если в руссоистской традиции мир «благородного дикаря» — это своеобразное младенчество цивилизованного общества, то у А. Бестужева этот мир «дикий», но свободный, естественный и гармоничный. В нем живут в большинстве своем люди открытые, прямые и честные. Он противопоставляется обществу, испорченному цивилизацией, в качестве полноценной альтернативы — альтернативы в каком-то смысле даже более предпочтительной, чем бессмысленная, а зачастую и беспросветная повседневность жизни, окружающая «цивилизованного» человека.
Любопытно, что столетие спустя многие антропологи XX века, в число которых входит и не так давно умерший классик Клод Леви-Стросс, изучавшие потестарные общества, будут разделять эту точку зрения.
Но мир, свободный от пороков цивилизации, для европейского читателя можно найти скорее в литературе, чем в реальной жизни. На рубеже XVIII–XIX веков такой мир становится, по сути, утопией в буквальном значении термина — далекой территорией без названия, расположенной неизвестно где, за морем, за океаном.
Русский читатель в XIX веке оказался в более выгодном положении благодаря А. Бестужеву-Марлинскому. В его повестях мир «благородных дикарей» находится рядом, на тогдашней границе империи — это Кавказ (точнее, Западный и Северо-Западный Кавказ, поскольку в Дагестане и Закавказье, где А. А. Бестужев после возвращения из якутской ссылки в 1829 году провел более двух лет, по отзывам современников, царила ленивая атмосфера окраин империи).
Именно произведения А. Бестужева-Марлинского формируют у российской читающей публики романтическое представление о «кавказских обществах» (термин, обозначавший самоуправлявшиеся племена и племенные союзы и использующийся некоторыми зарубежными кавказоведами и поныне) как о гармоничном, сложном организме, где к достойному (благородному) поведению человека побуждает не страх перед законом и наказанием за его нарушение, а общественная мораль, основанная на обычаях (адатах). В кавказских «обществах» поступки человека определяет сложная система социальных регулятивов (как, например, широко известный кодекс «Адыгэ-Хабзэ», во многом соблюдающийся и у современных адыгских народов).
Интересно, что такое представление очень скоро становится стереотипом и уже спустя годы после гибели А. А. Бестужева не только воспроизводится литераторами, но и присутствует в записках некоторых младших офицеров, воевавших в Чечне, горной части Дагестана и на Западном Кавказе в самый жестокий период Кавказской войны (т. е. со второй половины 40-х годов и до ее окончания в 1864 году).
Но влияние А. Бестужева-Марлинского на общественное мнение, так же как и особое внимание к нему со стороны жандармского корпуса, определяется не одной только романтизацией сопротивляющихся российской экспансии горцев. Художественная по форме проза Бестужева-Марлинского была остро публицистической по ее общественному звучанию. Волей-неволей она побуждала читателя сравнивать повседневную жизнь современной ему России (где «бунт бессмысленный и беспощадный» для подавляющей массы подданных империи становится, по сути, единственной превращенной формой проявления их достоинства) с гармоничным и свободным существованием горцев и некоторой части воевавших с ними казаков с отдаленных линий — цепи кордонов и редутов (пограничных укреплений). Естественно, такое сравнение опиралось на сильно идеализированное представление о горских «обществах», однако сам факт подобной идеализации мало кого из читателей волновал. Волновало другое — «полная достоинства, гордая и свободная жизнь» есть, и не где-то «за морем», а «почти рядом», на границах России.
В отличие от английского «колониального романа», в котором многие авторы в конце концов пришли к оправданию колониальной экспансии идеологемой «бремя белого человека», прочтение «кавказских» произведений А. Бестужева-Марлинского приводит читателя к вопросу о том, что несет эта война кавказским народам. И А. Бестужев дает свой ответ: «покорение» горцев принесет им только лишения, страдания, а в итоге и уничтожение, как в физическом, так и в этнокультурном отношении. Мрачные предчувствия писателя сбылись после его смерти в судьбе мухаджиров (горцев, вынужденных бежать за границу после военного поражения) на последнем этапе Кавказской войны.
В то же время нельзя не отметить, что в последние годы жизни А. А. Бестужева (с середины 30-х годов XIX века) история декабристов и поднятых ими тем понемногу стала «сходить с повестки» (возможно, причиной тому послужили войны — русско-персидская 1826–1828 годов и русско-турецкая 1828–1829 годов, а также Польское восстание 1830–1831 годов). Появились и новые литературные герои — «лишние люди» (хрестоматийными образами которых стали Онегин и Печорин).
В 30-е годы XIX века умонастроения, постепенно овладевавшие благодарными прежде почитателями героев Александра Бестужева-Марлинского, все дальше уходят от восхищения «идеалами свободы», «благородными дикарями» и радостями «естественного мира». Ситуация, очень точно переданная Леонидом Филатовым в «Кюхельбекере», одном из блестящих стихотворений пушкинского цикла, где лирический герой оказывается в таком же положении: «Он пишет им, не чуя между тем, // Что век устал болтать на эту тему. // Нет добровольцев бить башкой о стену…»
В 1835 году (еще при жизни А. Бестужева) начинает атаку на романтизм и «выдуманных героев» писателя «неистовый Виссарион» (В. Г. Белинский). Последний, впрочем, и сам довольно скоро надолго уйдет в небытие как литературный критик, но ни А. Бестужеву, ни романтизму это уже не поможет.
«Все счастливы, что кончилась гроза!.. // ...А он, забытый всеми, ждет ответа…» (Л. Филатов, «Кюхельбекер») — так, наверное, можно было бы обозначить положение в русской литературе А. Бестужева, проживи он еще несколько лет. Все, «конец игры». Под конец жизни А. Бестужева красивых романтических героев сменяют «лишние люди», а еще через 20–25 лет тон в общественном мнении начнут задавать разночинцы Базаровы, не ведающие сомнений и не склонные к красивостям и сантиментам ни в речах, ни в поступках и совершенно равнодушные к Кавказу.
Как бы кощунственно это ни прозвучало, но ранняя смерть А. Бестужева-Марлинского в каком-то смысле была милостью судьбы. Он ушел из жизни, еще не растеряв своей прежней славы, сохраняя если не надежду на лучшую жизнь, то по крайней мере способность и желание мечтать о ней. Ушел так, как и должен уходить романтический герой, — рано, в сражении, загадочно, — его труп среди погибших на мысе Адлер 19 июня 1837 года так и не был найден (одно время это даже породило легенды о том, что он ушел к горцам).
Сегодняшнему читателю, выросшему отнюдь не на романтических героях, едва ли захочется разбираться во всех их страстях и пространных (местами даже нудноватых) размышлениях о своем предназначении — что в период романтизма было характерно не только для литературных персонажей, но и для людей круга Бестужева-Марлинского, реально живших в то время (к слову, в этот же круг в свое время входил и А. С. Пушкин).
Эпоха романтизма, в том его варианте, который был популярен в XIX веке, ушла безвозвратно и, наверное, была бы основательно забыта, если бы время от времени не появлялись произведения, способные в яркой и занимательной форме «оживить» его — интересно показать характерные для него темы, мысли и проблемы. Роман Евгения Андреевича Милованова «На Кавказской линии» в этом отношении вполне удовлетворяет самым строгим критериям. У него хороший, прямо-таки кинематографический темп, колоритные герои, увлекательная фабула, нарастающий по ходу развития сюжета драматизм, легкий и красочный язык — «все, как положено»… При этом он достаточно прост для восприятия неподготовленного читателя.
Однако при всей внешней простоте и традиционности и где-то даже нарочитой бесхитростности, композиционно он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что избранное автором построение романа в точности повторяет схему, традиционную для «бестужевского» романтизма.
Типичный для XIX века набор действующих лиц: отвергнутый современным ему «цивилизованным обществом» главный герой, волею злосчастной судьбы оказавшийся в «диком краю» (сам Александр Александрович); «благородные дикари-аборигены» (Никишка, Ахмет), прямодушные до наивности, но тонко чувствующие драму хорошего человека и на этом, достаточном для них основании почти сразу предлагающие ему свою поддержку и дружбу. Продолжают ряд персонажи, олицетворяющие «цивилизованное общество-государство», все, за редким исключением, отрицательные: трусливый позер (Гризинау), бездушно рациональный жандармский ротмистр (Казанцев), безжалостный «человек войны» (генерал Засс, по утверждениям отдельных, более поздних историков, психопат); угнетаемые и забитые крестьяне, чей бунт изначально обречен на поражение.
Традиционная для все того же романтизма линия развития драматургии: чем больше государство вмешивается в гармоничное существование потестарных обществ, тем больше зла появляется в горских обществах, и происходящие изменения роковым образом сказываются именно на судьбе самых лучших их членов (тоже довольно часто встречающийся мотив, позже часто обыгрывавшийся в кино). Далее следует разделение потестарного горского общества на тех, кто примкнет к «цивилизаторам», и тех, кто будет отстаивать уклад прежней свободной жизни. Однако любые попытки «благородных дикарей» противостоять надвигающейся махине государства — как у казаков (Никишка, Назар), так и у горцев (Ахмет, Аслан) — оканчиваются неудачей.
Также в соответствии с романтическим каноном герои первого ряда (сам Бестужев, Никишка, Ахмет, капитан Лесневский, поручик Крайнов), по сути, являются своеобразной персонификацией определенных мировоззренческих позиций, а их реплики в диалогах нередко звучат как прокламация, обобщенные тезисы такой позиции. Например, полемика Бестужева и Лесневского о литературе, где первый манифестирует основное философское кредо романтизма, а второй формулирует позицию пробивающего себе дорогу критического реализма.
Вышеотмеченная схема в той или иной степени присутствует в любом произведении XIX века, если оно испытало влияние романтизма и основное его действие происходит на колонизируемых территориях — от лермонтовского Печорина до романов Фенимора Купера.
По большому счету читатель, имеющий самое общее представление об основных этапах Кавказской войны XIX века, достаточно легко может угадать дальнейшее развитие событий еще в самом начале романа. Тем не менее, несмотря на все условности жанра, у читателя сохраняется стойкое ощущение достоверности происходящих событий — роман читается почти как историко-этнографические записки о Кавказской войне.
Думается, что, помимо отмеченных ранее легкого, даже красивого языка и динамичности романа «На Кавказской линии», читательский интерес обусловлен историко-этнографической и географической достоверностью. Автор хотя и лаконично, но очень точно описывает места, где происходит действие. Не знаю, осознанно или нет, но Евгений Милованов в какой-то мере следовал самому Бестужеву-Марлинскому, который в описании обычаев, уклада жизни горцев и мест, где он бывал во время военных походов на Кавказе, отличался редкой точностью и педантичностью.
Также Милованов, будучи квалифицированным историком-кавказоведом, был хорошо знаком с архивными материалами Кавказской войны, в том числе закрытыми (благодаря поддержке друзей), особенно касающимися военных экспедиций и походов на Западном и Северо-Западном Кавказе. В свое время он сделал съемку и описание двух редутов на Урупской и Лабинской линиях укреплений (кстати, там же им были найдены еще не применявшиеся в русской армии расширительные пули Минье и Петерса, непосредственно свидетельствующие о поставках горцам англичанами и французами самого современного на тот момент нарезного стрелкового оружия).
В местах, где происходит основное действие романа «На Кавказской линии», автор прожил более двадцати лет и сам целенаправленно не раз проходил теми же маршрутами, что и герои его романа. Притом что по требованию редакторов издательств, в которые он обращался, какие-либо намеки на конкретную этническую принадлежность некоторых героев (Ахмета и Аслана) необходимо было исключить, Евгений Андреевич очень хорошо знал культуру и обычаи всех без исключения народов, проживавших в этих местах во времена Кавказской войны, вплоть до особенностей быта отдельных адыгских племен, ныне исчезнувших (например, кизилбековцев).
Именно это позволило ему убедительно воспроизвести в тексте романа мотивы действий второстепенных героев. Например, четко обозначенный конфликт между героями второго плана (Ахмет и Аслан против Канукова) — это стремительно развивающийся конфликт уходящего потестарного горского общества и становящегося классового общества, который неизбежно привел бы к появлению на Западном Кавказе самостоятельного феодального государства (процесс был прерван только экспансией со стороны Российской империи).
Латентную основу такого конфликта, заложенного в романе, составляют процессы, реально происходившие среди этносов, населявших Западный Кавказ, в первую очередь среди адыгских народов — предков современных адыгейцев, кабардинцев, шапсугов, черкесов и в меньшей степени абазин, которых в то время как в России, так и за рубежом именовали черкесами. Так, в грезах-размышлениях князя Канукова об объединении земель под своим правлением ясно сформулирована позиция той части кабардинской знати, которая не смирилась с продвижением Российской империи на территорию современных Кавказских Минеральных Вод и уходила вместе со своими аулами на слабонаселенные и еще не подконтрольные России земли — междуречье рек Кубани, Лабы и Белой. Туда же стремились уйти и многие самостоятельные адыгские племена, в которых на тот момент не было господствующих княжеских фамилий (позднее кавказоведы назовут их «демократическими» племенами в противовес «аристократическим», сохранившим княжеские фамилии в качестве главенствующих). В результате в бассейне рек Зеленчук и Большой Лабы сформировались фактически независимые территории так называемой Беглой Кабарды. И Кануков понимает, что необходимым условием его независимости так или иначе станет бесконечное лавирование между Россией и Турцией, претендующих на эти земли. Открытое русско-турецкое соперничество за влияние на Кавказе ко времени событий, описываемых в романе, насчитывало уже полстолетия.
В любом случае мысли и речи практически каждого героя — это представления, сформированные и сформулированные именно в таком виде, в каком они были распространены в соответствующей среде в начале второй трети XIX века — времени действия романа «На Кавказской линии».
Но в романе есть еще и третий слой — авторский. «На Кавказской линии» был написан в 1969–1972 годах, когда, как известно, обязательной была единая точка зрения на любые события в истории России. Разрабатывали такую «идеологически выверенную» точку зрения соответствующие отделы партийных органов.
За тем, чтобы авторы любого подготовленного к публикации текста не отступали от официальной «линии партии» (КПСС), следили специально уполномоченные органы, так называемые лито (литературные отделы органов безопасности). Любое научное, публицистическое или художественное произведение неизбежно попадало в одну из трех следующих категорий: первая — оно могло быть сразу допущено к публикации; вторая — допущено только при условии переделки и исправления обнаруженных несоответствий официальной трактовке; третья — не должно быть опубликовано в СССР ни при каких обстоятельствах, в таком случае рукопись у автора, как правило, изымалась.
Такая система контроля всегда давала прогнозируемый результат. Если художественное произведение касалось конкретных исторических событий или личностей, либо оно должно было полностью укладываться в официальные их трактовки, либо автор должен был обозначить его как «вымысел на тему» (подобно тому, как сейчас указывается, что «все совпадения случайны»).
При работе над романом «На Кавказской линии» Е. А. Милованов в общем-то достаточно ясно понимал, что его ждут многочисленные проверки текста на соответствие «линии партии». Но, будучи историком по образованию, хорошо знавшим и фактуру, и принятые историко-литературоведческие трактовки, он рассчитывал обойти препоны.
Поначалу казалось, что это ему почти удалось. Формально все соответствует: вот тебе жестокий царизм, вот — неоднозначный генерал Засс (в советской историографии его фигуру предпочитали больше замалчивать, чем критиковать, все-таки ревностно служил приращению земель), вот — почти карикатурный представитель класса-эксплуататора Гризинау; умелый вербовщик жандарм Казанцев; угнетающий свой собственный народ князь Кануков, ради власти готовый на компромиссы хоть с англичанами, хоть с турками, хоть с русскими и одинаково презирающий их всех…
Вроде бы все как надо, все вписывается в одобряемый официальной идеологией набор персонажей исторического романа. Все так — да не так. С точки зрения тогдашних идеологических клише Кавказская война при всех ее ужасах считалась явлением «исторически прогрессивным», поскольку «революционизировала угнетаемые народные массы окраин империи» и тем самым «приближала революционную ситуацию» (существовавшие тогда действительно серьезные исследования в основном предназначались профессионалам и не были рассчитаны на широкую аудиторию). Тогда как «На Кавказской линии» несет в себе скрытые, но достаточно четкие посылы: любая война за присоединение территорий — зло, любое государство — машина угнетения, чем порядочнее человек, тем сложнее ему сохранить достоинство и свободу в окружающей его жизни.
Привыкший к «двоемыслию» искушенный советский читатель (а читали тогда все) охотно и с удовольствием проецировал реплики героев романа о войне, свободе, государственной власти на современное ему положение дел. И получалось, что изменилось-то не так уж много. В этом плане показательна реплика одного из друзей Е. А. Милованова (офицера КГБ, немало помогавшего ему с доступом к закрытым архивным документам): «Что-то твой Казанцев совсем уж на наших (т. е. чекистов) смахивает». Прочитавший роман историк и лектор-пропагандист (была такая форма работы с населением) говорил о том, что вообще-то Засс получился «порядочной скотиной», а Аслан — не будущим революционером, а откровенным бандитом, грабившим тех, кто побогаче, обеспечивая себе тем самым поддержку со стороны бедноты.
Я не уверен, что Евгений Милованов сознательно закладывал в свой текст возможность такого прочтения, однако в то время в кругу его потенциальных читателей подобная «герменевтика» была нормой.
И сведущими во всяческих интерпретациях были не только будущие читатели романа «На Кавказской линии», но и специалисты лито.
В итоге хождения Е. А. Милованова по редакциям, заключения лито, дискуссии с рецензентами заканчивались одним приговором: «так» (с подтекстами всякими) писать нельзя, и публиковать «такое» тоже нельзя. Ладно еще, если бы написанный текст сразу был обозначен как вымысел, где главный герой никакой не А. А. Бестужев-Марлинский, а некий «обобщенный образ писателя-декабриста». В одной редакции даже предложили переименовать его в Остужева: мол, и вопросы снимешь, и «с намеком». Ан нет, начинающий автор претендует на соответствие историческим событиям, да еще и текст его романа какой-то беспафосный, не зовущий к борьбе, не намекающий на то, что в исторической перспективе «ярмо деспотизма разлетится в прах» (выражение из работы В. И. Ленина «Памяти Герцена», отрывки из которой абитуриенты гуманитарных факультетов заучивали на память).
Действительно, публиковать такое нельзя.
Самое интересное, что сам Е. А. Милованов ни на какое научно-биографическое открытие не претендовал, был безразличен к популярному тогда доморощенному диссидентству интеллигенции, не любил разговоров о том, что историко-романтическая тема в литературе несовременна или насквозь идеологизирована (в последнем случае обычно имелись в виду произведения о Гражданской войне 1918–1920 годов). Он любил историю Кавказа, историю русской романтической литературы XIX века, ему нравилось о них рассказывать — из этого всего и вырос роман «На Кавказской линии», который больше полувека пролежал «в столе». И дело здесь, наверное, не столько в пресловутом советском прошлом, сколько в том, что такие писатели-романтики, как он, в любые времена, при любом строе оказываются ни к месту и не ко времени.
«Звезда безвременья» — таково было рабочее название романа «На Кавказской линии». Не берусь судить о том, насколько верно оно отражало судьбу главного героя, но судьба самого автора в нем обозначена точно.